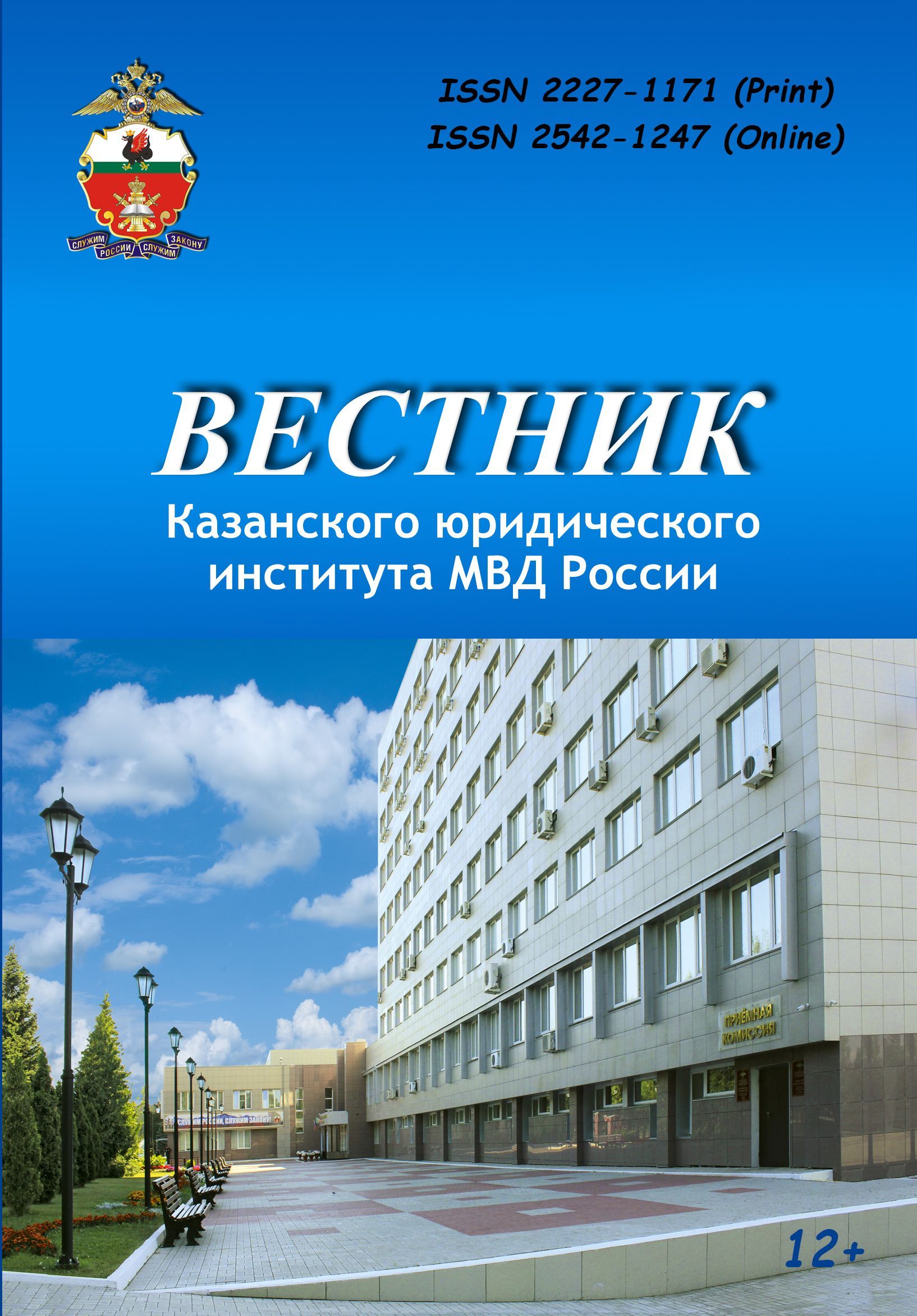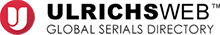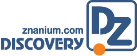Moskva, Moscow, Russian Federation
UDK 343.2 Общая часть уголовного права
UDK 340.151 Первоначальные формы права. Возникновение правовых систем
Introduction: the author studies profundity and the major trends of impact of the right of the Eastern Roman Empire (Byzantine law) on the development of the Russian criminal law. The goal of the study is substantiation of the rebuttals to a point of view of some scholars on legal “underdevelopment” and of the programmed implementation doom of domestic public and criminal law. Materials and Methods: legal monuments of the Eastern Roman Empire – Digests of Justinian, Ekloga, Nomocanons, Prochiron etc. – were the basis for the study, as well as legal monuments of Ancient Russia: Treaties with Byzantium of Princes Oleg and Igor, Charters of Princes Vladimir Svyatoslavovich and Yaroslav Vladimirovich, Russkaya Pravda (Russian Truth), Pskov Judicial Charter, Novgorod Judicial Charter, various editions of Kormlichy Books (Pidalion) and Merila the Righteous, etc. The author used the method of historical analysis made by Fucidid in antiquity and the method of historical reconstruction of the comparative jurisprudence. Results: the domestic criminal legislation from its establishment based on the traditions of the classical Roman law in its most developed Byzantium form. And while the vector of Byzantine influence on the development of secular criminal law has faded over time, canon law continues to experience it today. Discussion and Conclusions: understanding of the true historical roots of the establishment of the domestic law forms the foundation for its development nowadays and frees the reform of Russian criminal law from artificially imposed dependence on trends in the development of European public law.
criminal law; responsibility; historical analysis; Russkaya Pravda; St. Vladimir's Charter; Nomocanon; Eclogue; Prochiron; genesis; reception; influence
Введение
Как справедливо отметил выдающийся отечественный историк В.О. Ключевский, «прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому что, уходя, не умело убрать своих последствий» [1, с. 7]. В настоящее время обострилось внимание к нашим историческим корням, в том числе и к генезису российского права. Парадоксально, но на фоне общего признания факта восприятия Русью православия от Византии вопрос о поиске корней русского права в праве римском и сегодня является дискуссионным. Существенная часть либерально ориентированных представителей историко-правовой доктрины и в настоящее время отстаивает тезис о приоритете европейского права над отечественным в силу происхождения первого от римского права. Тем не менее, как отмечал О.В. Георгиевский: «Вопрос о степени влияния римского права на право русское сегодня продолжает оставаться в числе самых малоисследованных вопросов не только в истории, но и в истории права… речь идет о греко-римском (византийском праве).» [2, с. 34].
Материалы и методы
В качестве материалов автором избраны:
1. Юридические памятники Восточной Римской империи: Дигесты Юстиниана, Эклога, Номоканоны, Прохирон и др.
2. Юридические памятники Древней Руси: договоры с Византией князей Олега и Игоря, Уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава Владимировича, Русская Правда, Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота, различные редакции Кормчих книг и Мерила Праведного и др.
Методология исследования представлена методами исторического анализа и исторической реконструкции сравнительного правоведения.
Результаты исследования
Весьма распространенным суждением в юридической науке распространена точка зрения, согласно которой право Западной и Центральной Европы исторически основывается на традициях римского права, чем и обусловливается его «развитость» и «эталонность»; генезис же отечественного права лишен непосредственных генетических связей с римским правом (в лучшем случае такие связи реализуются транзитом посредством польско-литовской интерпретации), что и предопределило «отсталость» отечественной правовой мысли и законодательства. Примечательно, что такой подход не теряет популярности, несмотря на то что целая плеяда авторитетных представителей юридической доктрины (И.Д. Беляев, М.Ф. Владимиров-Буданов, П.С. Качалов, В.О. Никольский, В.И. Сергиевич [3, 4, 5, 6, 7]) еще в ХIХ в. его убедительно опровергла.
Имела место диаметрально противоположная ситуация: это европейские государства восприняли римско-правовые традиции транзитом через их интерпретацию в Варварских правдах. В отражении в европейских правовых актах правосознания римских юристов наблюдаются серьезные временной (в несколько веков), географический и цивилизационный разрывы. Франкские и германские юристы творили спустя полтысячелетия после падения Рима, они как бы реанимировали правовой архаический материал. Становление же отечественного права демонстрирует принципиально иную картину: вместе с заимствованием православного христианства1 рецепции подверглись и алфавит (письменность), и государственное устройство, и правовая система. Причем имело место непосредственное (без каких-либо транзитов и интерпретаций) взаимодействие двух «живых» систем. Отсутствовала реанимация архаичного материала, «трансплантировались» положения двух «живых» сосуществующих юридических «организмов». На территории Руси, а позднее и России, непосредственно действовали правовые акты Византии. Они продолжали свое действие и после падения Византии (феномен проявления принципа «переживания» действия закона во времени), а некоторые из них продолжают действовать и поныне в сфере канонического права (нормативные акты Русской православной церкви). Правовые обычаи раннефеодального общества вошли в контакт с импортируемыми универсальными кодифицированными правовыми актами. И это сочетание в первом приближении несовместимых явлений породило достаточно крепкий юридический «сплав» (условно можно провести аналогию с дамасской сталью), о чем мы более подробно уже ранее писали в своих предыдущих работах [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Впервые в историко-юридической доктрине проблематику влияния права Византии на право Древней Руси обозначил авторитетный ученый Н.В. Калачов: «…на каких данных утвердилась ее юридическая сила в нашем отечестве и как могла эта сила не только окрепнуть, но и развиться на нашей почве, или: каким образом чуждая нашим предкам догма Византийского права могла сделаться и у них не только каноном, но и живым, практическим источником церковного и светского судопроизводства?» [15, с. 2].
Восточная Римская империя в тот период представляла собой своеобразный цивилизационный эталон. Подражать ей в культурном или юридическом плане было не зазорно; более того, даже почетно. Древняя Русь не была особым исключением. Такое заимствование наблюдалось даже во время ведения боевых действий с Цареградом, что наглядно демонстрирует история взаимоотношений Византии с Болгарским царством.
Полагаем, необходимо сделать следующую оговорку: диффузию правовых систем Византии и Древней Руси ни в коем случае нельзя рассматривать исключительно в призме принятия Русью православия. Взаимодействие и взаимопроникновение двух правовых систем началось еще до крещения языческой Руси (например, договоры с греками князей Олега и Игоря). Также термины «взаимодействие» и «взаимопроникновение» нами применяются весьма условно; говорить о равноправном (равновекторном) взаимодействии развитой системы права Византии и находящегося в эмбриональном состоянии (на тот момент) права Руси не приходится. Плотный культурно-политический контакт раннефеодальной Руси с цивилизационным центром мира того времени (Восточной Римской империей) породил острую необходимость в разработке и принятии «общих правил игры» [16, с. 3]; естественно, правовой арсенал руссов мало что мог предложить в качестве вклада в этот «совместный капитал»; это неизбежно обусловило доминирование в рассматриваемом процессе Византийского права. Назвать такой процесс компромиссом (как это делают некоторые ученые [16, с. 4]) было бы несправедливо.
Взаимодействие различных правовых систем, где одна из которых находится в эмбриональном юридическом состоянии, а другая достигла апогея правового расцвета, осуществляется в формах рецепции и симбиоза. Первым опытом правового симбиоза византийского права и обычного права восточных славян/русов являются договоры князей Олега и Игоря с греками 911, 945 и 971 годов, о содержании которых известно из «Повести временных лет». Симбиоз русского и византийского в этих договорах наглядно демонстрирует следующее положение: «вор должен быть наказан «по закону греческому и по уставу и закону русскому»2.
Базовой рецептивной формой взаимодействия византийского права и письменного права Древней Руси являются Устав Святого князя Владимира Святославовича о десятинах и церковных людях и Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах, дошедшие до нас в тексте Кормчей книги ХIII в. Сама концепция интеграции норм светского и канонического права была разработана и оптимизирована именно в Восточной Римской империи и оттуда была удачно заимствована в русское правовое пространство. В доктрине проанализированы пять редакций этих документов. Заимствование актов канонического византийского права Русью (и в дальнейшем Россией) носило естественный характер; так как с крещения Руси и до 1597 г. (момент учреждения русской патриархии) русская церковь, а следовательно, и церковные суды подчинялись (организационно, методологически, нормативно…) константинопольскому патриарху [17, с. 90]. За многовековое бытие такого подчиненного бытия прочно сформировались каноническое правовое пространство и система церковных правовых обычаев таким образом, что и после учреждения российского патриархата, и даже после его ликвидации Петром I и дальнейшего возрождения в ХХ в. эта связь с византийским каноническим правом не была утрачена. «Наиболее важные из реципированных кодексов суть: 1) Эклога Льва Исаврянина и Константина Копронима (739 – 741 гг.), усвоенная в самостоятельной переделке; 2) Прохирон Василия Македонянина (870 – 878 гг.), называемый в наших кормчих «законами градскими» – памятник, богатый содержанием и близкий по духу к римскому праву; но в Книгах Законных из него реципировались только некоторые, наиболее необходимые и пригодные части» [4, с. 117]. К этому ряду правовых актов можно отнести и Номоканон Иоанна Схоластика (составной частью которого были правила четырех вселенских – Халкидонского, Эфесского, Константинопольского и Никейского – и шести поместных соборов) в пятидесяти титулах, и Номоканон в четырнадцати титулах с хронологической синтагмой канонов в редакции патриарха Фотия (в котором особый интерес представляет Титул IХ о преступлениях епископов и клира), Эпанагога 1876 г., Василики 890 г. и, разумеется, Дигесты Юстиниана.
В «Повести временных лет» нашел отражение (правда, не закрепленный в дошедших до нас правовых актах) первый случай в отечественном праве – введение моратория на смертную казнь: после принятия православия великий князь Владимир Святославович запретил казнить разбойников: «ибо, говорил он, боюсь греха» – в результате клирикам пришлось объяснять неофиту, что наказание преступников – не грех, а долг правителя [15, с. 4]. Насколько достоверно это повествование в настоящее время, определить трудно, но данный сюжет отражает сложный процесс «творческих метаний» в преддверии создания Устава.
Достаточно распространенной является точка зрения, согласно которой жестокие виды наказания, популярные в Восточной Римской империи, не были восприняты правосознанием юристов Древней Руси, в силу чего не нашли своего отражения ни в Русской Правде, ни в судных грамотах, ни в судебниках [18, с. 188-220]. Так, в соответствии с Титулом ХVII Дигеста «Наказания за преступления», наказывались за:
- лжеприсягу, данную на Евангелии, – отрезанием языка;
- посягательство на клирика в церкви – сечением плетьми и изгнанием;
- алтарное хищение – ослеплением;
- разврат – сечением плетьми (12 ударов женатому и 6 холостому);
- скотоложство – также ослеплением;
- соблазнение монахини, крестницы, изнасилование – отрезанием носа;
- инцест и мужеложство – смертной казнью.
Действительно, ни один из этих составов преступлений и видов наказаний ни в Русской Правде, ни в иных правовых актах исследуемого периода не отражен. Но в летописях нередко фиксировались случаи рассмотрения уголовных дел с вменением именно таких преступлений и назначение именно таких наказаний. Например, дело Луки Жидяты. Необходимо учитывать, что рецептированный нормативный материал и сам по себе был отражением достаточно острого противоречия: между возвышенно-жертвенным христианским духовным содержанием и прагматической юридической формой. Наглядный пример: Номоканон XIV титулов как форма проявления римского правосознания не отрицал «авторитета евангелической жертвенности, но в условиях земных реалий руководствовался своими, во многом отличными от церковного взгляда принципами в области охраны жизни, собственности и чести иноков от посягательств воров, оскорбителей, насильников» [19, с. 31]. Например, п. 4 титула XVII Эклоги гласил: ударивший священника подлежит сечению кнутом и изгнанию, а похитивший или обесчестивший монахиню – отсечению носа. Подобное несколько диссонирует с христианским милосердием: «ударили по левой щеке, подставь правую».
Естественно, подобное диалектическое противоречие в процессе рецепции унаследовало от Византии и русское право. Примером тому может служить дело Луки Жидяты, которого оговорили холопы, что повлекло его заточение в Киеве; виновному в оговоре Дудице были отрезаны нос и обе руки [19, с. 35]. Поскольку в правовых актах того периода отсутствовало упоминание о подобных телесных наказаниях, приходим к выводам: а) либо к данному случаю было применено непосредственно византийское право; б) либо в этом деле нашел проявление иной отечественный правовой регулятор того периода, помимо писаного права, например правовой обычай. То, что это событие не было единичным фактом, подтверждает и расправа над ростовским епископом Федорцом, спустя век после рассмотренного выше дела подвергнутым телесному наказанию; в 1230 г. умер в заточении после отстранения от должности юрьевский игумен Савва; известен суд Андрея Боголюбского (приговоривший виновных к казни) за смерть ростовского епископа Федора, притчей во языцех является «неправый суд» над Требовальским князем Васильком [19, с. 36]. Ни телесные наказания, ни отстранения от должности, ни пожизненное лишение свободы правовыми актами того исторического периода не предусматривались. Рассмотренные казусы ярко опровергают суждение некоторых историков правоведов о гуманности древнерусского права, не знавшего суровых наказаний и казней (поскольку они не отражены в письменных документах) [4, с. 417-418; 20].
Примечательна попытка закрепления в Эклоге такого варианта правомерного причинения вреда, как убийство оскорбленным супругом любовника, непосредственно застигнутого у собственной жены. Причинитель смерти в таком случае не признавался убийцей и не подлежал ответственности. Но такая привилегия не распространялась на жен. Не признавалось оправданием и причинение смерти любовнику, не застигнутому на месте прелюбодеяния. Также обращает на себя внимание, что допускалось убийство любовника, но не жены – проявление имущественной природы брачно-семейных отношений. Данное положение не нашло непосредственного закрепления в текстах отечественных юридических исторических памятников; но полагаем, общее принятие русским правосознанием такого положения вещей имело место, так как оно соответствует множеству норм русского права и обычая вплоть до Стоглава и Домостроя.
Обсуждение и заключение
Процесс становления и развития уголовного права России являлся достаточно сложным и длительным; он испытывал на себе влияние различных географических, политических и мировоззренческих направлений в разные эпохи. Но в момент его возникновения и долгий период после этого наблюдается мощное и непосредственное (минуя варварско-европейский транзит) византийское влияние. Имеет место глубинная рецепция римского права в самой мощной форме его юридической обработки и закрепления – систематизированного и догматически обеспеченного права Восточной Римской империи. Данный феномен вполне можно определить как «византизм». И импульс такого влияния не угас и по сей день. Генезис отечественного публичного, и прежде всего уголовного, права наглядно демонстрирует органическую связь с римским правом в его наиболее развитой византийской форме, что формирует определенные базисные моменты в современном правопонимании и правоприменении.
1. Malahov V.P. Obschaya teoriya prava i gosudarstva: kurs lekciy. Moskva: YuNITI-DANA: Zakon i pravo, 2018. 271 s.
2. Martyshin O.V. Problema cennostey v teorii gosudarstva i prava // Gosudarstvo i pravo. 2004. № 10. S. 5 - 14.
3. Cybulevskaya O.I. Nravstvennye osnovaniya sovremennogo rossiyskogo prava/ pod red. N.I. Matuzova. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya akademiya prava, 2004. 220 s.
4. Dorskaya A.A. Krizisnye yavleniya v prave i puti ih preodoleniya: teoreticheskiy i istoriko-pravovoy analiz: monografiya. Sankt-Peterburg: Asterion, 2021. 160 s.
5. Pravo. Poryadok. Cennosti: monografiya / pod obsch red. E.A. Frolovoy. Moskva: Blok-Print, 2022. 688 s.
6. Chechel'nickiy I.V. Spravedlivost' i pravotvorchestvo: monografiya. Moskva: Prospekt, 2021. 176 s.
7. Kleandrov M.I. Pravosudie i spravedlivost': monografiya. Moskva: Norma: INFRA-M, 2022. 364 s.