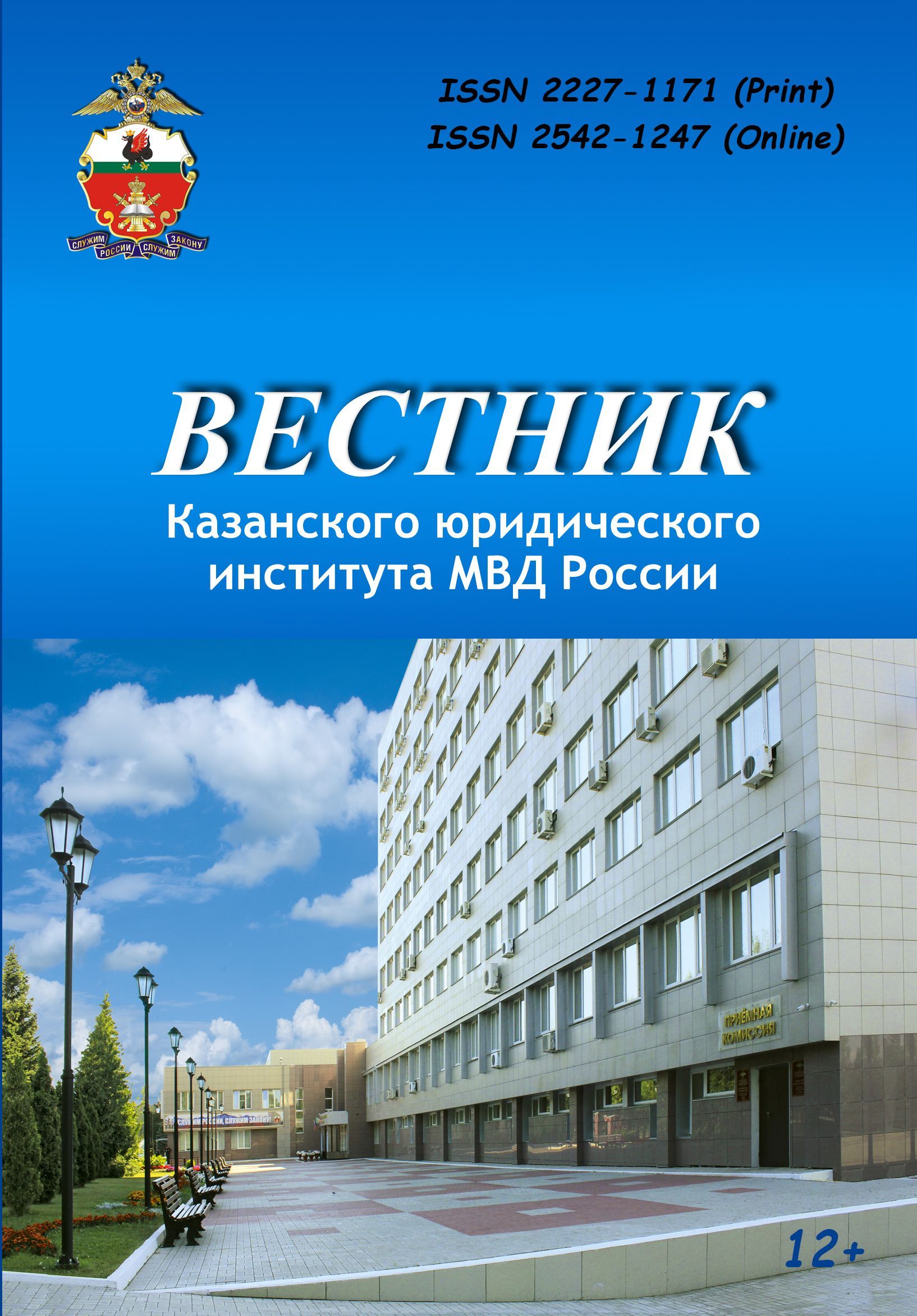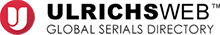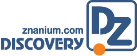Russian Federation
UDK 343.2/.7 Уголовное право
Introduction: the article examines the legal nature of the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation, its formation in the history of domestic criminal law, provides a conceptual and terminological analysis of this criminal and legal category. Materials and Methods: the general method of dialectical epistemology in the study of the legal nature of the institution of incitement, its reflection both in the norms of the General and Special parts of criminal legislation were the methodological basis of the article. Universal scientific research methods were used in the work, in particular, comparative and legal, systemic and structural, legal modeling, linguistic, and analysis were also used as a particular scientific method of cognition. Results: in order to derive the most optimal definition of the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation, its origin has been determined and the content has been studied, which is proposed to be supplemented with some provisions, the specificity of which is that they arise not from the theory of criminal law, but from the current Russian legislation, in particular, investigation. The ratio of the General and Special parts of the Criminal Code of the Russian Federation in various periods of the development of criminal law is considered. Discussions and Conclusions: the study allowed us to develop the author’s definition of the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation and justify the need for its amendments to further enhance it.
system, criminal act, norm, criminal liability, aggregate, structural unit, institution
Введение
Применительно к современному УК РФ дефиниция его Общей части очень редко выводится и почти никогда не исследуется. Хотя, полагаем, и то и другое является важным для установления того, что представляет собой Общая часть УК РФ.
При этом противоположная ситуация характерна в основном для учебной уголовно-правовой литературы. Последнее, на наш взгляд, вполне объяснимо, ибо без преподавания Общей части УК РФ дисциплина «Уголовное право» обойтись не может, что изначально предполагает вычленение и разъяснение отличительных признаков данной части.
Обзор литературы
Проблемам уголовно-правового осмысления Общей части УК РФ и Общей части уголовного права, ее соотношения с Особенной частью УК РФ, а также их развития в истории отечественного уголовного права посвящены научные работы Б.В. Волженкина, Н.М. Кропачева, Г.В. Назаренко, Н.А. Лопашенко, Ю.Е. Пудовочкина, М.С. Жука, В.П. Коняхина, А.И. Чучаева, А.Г. Антонова, В.В. Сверчкова.
Результаты исследования
В ходе исследования установлено, что в теории уголовного права уделяется недостаточное внимание вопросам определения понятия Общей части УК РФ. В тех немногих определениях, что все-таки представлены, ею считается:
– сложившаяся система нормативных предписаний, генетически восходящих к положениям об ответственности за отдельные преступления, но способных к самостоятельному и относительно независимому развитию, которые функционально предназначены для общей характеристики оснований, содержания уголовной ответственности и мер уголовно-правового характера, а также для обеспечения внутреннего единства и согласованности уголовного закона [1, с. 64];
– структурная единица Уголовного кодекса РФ, которая регулирует типовые вопросы преступности и наказуемости деяний, опасных для личности, общества и государства [2, с. 13].
Иногда же дефинируется Общая часть не УК РФ, а уголовного права. Под последней понимаются:
– основанная на уголовно-правовых принципах система норм и предписаний, которые определяют содержание категорий и основных понятий отрасли, закрепляют основание, меры выражения и пределы уголовной ответственности [3, с. 139];
– совокупность правовых институтов, последовательно расположенных и связанных между собой [4, с. 37].
В то же время Общая часть УК РФ и Общая часть уголовного права – далеко не одно и то же. Их соотношение друг с другом известно – это форма и содержание.
Правда, с одной стороны, вполне очевидно, что непереходимой грани между Общей частью УК РФ и Общей частью уголовного права быть не может. Все-таки обе они являются формой и содержанием одного и того же образования.
Понятно, что между Общей частью УК РФ и Общей частью уголовного права не может быть совпадения. Принципиальное их различие нам видится в своеобразии того, что охватывается понятиями формы и содержания, которые, как известно, никогда не совпадают друг с другом в одном и том же образовании. Даже в самом элементарном виде содержанием признается то, что составляет сущность кого-чего-нибудь, а формой – внешнее выражение чего-нибудь, обусловленное определенным содержанием1.
Чтобы вывести адекватную дефиницию Общей части УК РФ, на наш взгляд, необходимо определить ее происхождение и изучить наполнение. Без того этого признаки понятия Общей части УК РФ не выявить.
Наличие Общей части российского уголовного законодательства в настоящее время кажется достаточно аксиоматичным. Однако так было далеко не всегда.
В уголовно-правовой литературе бытует представление о первичности Особенной части уголовного законодательства. Так, А.И. Чучаев полагает, что «появление Общей части уголовного права исторически предшествовало возникновению Особенной его части» [5, с. 10]. По мнению А.И. Бойко, Общая часть появилась «исторически позднее конкретных запретов» [6, с. 9]. На взгляд А.И. Бойцова, «исторически раньше появились законы, составившие в дальнейшем Особенную часть УК, и значительно позже стали формироваться некие обобщения, которые сегодня образуют Общую часть» [7, с. 229]. С подходом приведенных авторов вполне солидарен М.С. Жук, утверждающий, что, «как известно, Общая часть уголовного права возникает намного позже того, что мы называем частью Особенной, она с необходимостью предполагает эти особенные положения в качестве своей исторической основы» [3, с. 209].
Говоря иначе, получается, что до какого-то периода существовала лишь Особенная часть (точнее – то, что сейчас таким образом именуется) уголовного законодательства, а затем к ней присоединилась Общая часть. Сомнительно, что это в самом деле так.
Полагаем, что более верным является мнение, согласно которому «исторически… сначала появились казусные нормы – те, которые ныне мы относим к нормам Особенной части» [8, с. 21]. Еще же более точным, на наш взгляд, является представление, что «изначально уголовно-правовые акты не содержали ни Общей, ни Особенной частей в современном понимании, а состояли главным образом из статей, устанавливающих наказание за конкретные виды поведения» [7, с. 229]. Важнейшим является как раз последнее. Действительно, ни Общей, ни Особенной части в российском уголовном законодательстве ни по существу, ни по форме долгое время вообще не выделялось.
Вместе с тем анализ исторических памятников российского уголовного законодательства, на наш взгляд, не подтверждает того, что изначально оно представляло собой только положения, позже отнесенные к Особенной части. Необходимо обратить внимание на специальное исследование Общей части уголовного права РФ, произведенное В.П. Коняхиным. Автор небезосновательно утверждает, что «начальный этап формирования Общей части уголовного законодательства в ее «зачаточном» виде следует связывать с появлением первых письменных юридических памятников Х века – договоров Киевской Руси с Византией»; уже «в них содержались прообразы будущих нормативных предписаний Общей части (в частности, положения о необходимой обороне, покушении на преступление, экстрадиции) и использовались обобщающие унифицированные термины для обозначения основных категорий уголовного права – преступления («проказа», «съгрешение») и наказания («епитимия», «казнь»)» [9, с. 30]; в последующих актах начальная тенденция сохранялась.
На основании изложенного можно вполне обоснованно предположить, что изначально и долгое время существовало уголовное законодательство как таковое (причем часто не само по себе, а совместно с иным законодательством) без какого-либо разделения на Общую и Особенную часть. Оно преимущественно включало предписания, которые мы сейчас относим к Особенной части, но содержало и то, что в настоящее время мы наделяем статусом положений Общей части.
Действительно важно для предпринятого исследования содержание основных разделов Общей части уголовного законодательства РФ в настоящее время, которое непосредственно относится к ее специфике. Именно она и должна учитываться при выведении дефиниции данной части и при оценке ранее сформулированных дефиниций последних.
Причем нам, разумеется, известны многочисленные теоретические предложения о совершенствовании Общей части УК РФ. Для того чтобы узнать об этом, достаточно открыть едва ли не любую диссертацию или монографию, исследующие данную часть. Однако оценка и обозначенного, очевидно, не входит в предмет нашего исследования. Обратим внимание лишь на один, как представляется, важный для наполнения Общей части УК РФ момент. Его специфика заключается в том, что он вытекает не из теории уголовного права, а из ныне действующего российского законодательства.
Так, в ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено, что «лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»2. В теории уголовного права имеется точка зрения, согласно которой названный закон в части освобождения от уголовной ответственности может применяться автономно, т.е. без дублирования в тексте УК РФ [10, с. 45]. Другие же авторы (например, А.Г. Антонов и др.) придерживаются противоположного мнения [11, с. 22]. Мы поддерживаем позицию последних. И в подтверждение этому несколько существенных аргументов.
С одной стороны, поскольку в анализируемом положении сделана ссылка на освобождение от уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ, а таковым на основании ч. 1 ст. 1 УК РФ может быть только Уголовный кодекс, автономное применение данного закона, на наш взгляд, исключено.
С другой стороны, российскому законодателю, несомненно, было известно об упомянутом виде освобождения от уголовной ответственности, ибо Федеральный закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ на момент принятия УК РФ уже действовал. Значит, законодателю ничего не мешало включить в УК РФ еще один вид освобождения от уголовной ответственности. Он же этого не сделал, что, по нашему мнению, ярко свидетельствует о его позиции в отношении применения рассматриваемого вида освобождения.
Учитывая особое значение уголовно-правового противодействия преступным группам, вид освобождения от уголовной ответственности, названный в ч. 4 ст. 18 рассматриваемого Федерального закона, желательно поместить в УК РФ [11, с. 22-23]. Во всяком случае, на наш взгляд, в ином российском законодательстве вряд ли правильно упоминать уголовно-правовое явление, отсутствующее в УК РФ. На наш взгляд, легитимацию еще одного вида освобождения от уголовной ответственности следует произвести сейчас. Его место нам видится вслед за регламентацией освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Принимая во внимание все изложенные положения, уже можно дать оценку ранее приведенных дефиниций Общей части УК РФ. При этом для полноты картины мы будем учитывать и дефиниции Общей части уголовного права.
Во-первых, Общая часть УК РФ – это, конечно, совокупность законодательно сформулированных понятий, категорий и институтов, имеющих значение для Особенной части. Однако при предложенном решении не видно специфики собственно определяемого – Общей части УК РФ.
Во-вторых, Общая часть УК РФ – это, действительно, сложившаяся система нормативных предписаний, способных к самостоятельному и относительно независимому развитию и предназначенных для обеспечения внутреннего единства и согласованности уголовного закона. В то же время указание на генетическое восхождение Общей части к положениям об ответственности за отдельные преступления, на наш взгляд, ни о чем не свидетельствует, ибо при таком подходе ее можно представить как порожденной, так и порождаемой указанными положениями.
В-третьих, Общая часть уголовного законодательства Российской Федерации – это, разумеется, структурная единица Уголовного кодекса. В ней, конечно, регулируются типовые вопросы преступности и наказуемости деяний, опасных для личности, общества и государства. Только нередко это делается в отношении не всех, а лишь определенной части соответствующих деяний. Так, в силу прямого указания закона рецидив преступлений, неоконченное преступление и соучастие в преступлении относятся исключительно к умышленно совершаемым деяниям (ст. 18, 30 и 32 УК РФ).
В-четвертых, Общая часть уголовного права, безусловно, представляет собой систему норм и предписаний, которые определяют содержание категорий и основных понятий отрасли, закрепляют основание, меры выражения и пределы уголовной ответственности. Между тем вряд ли Общая часть только основана на уголовно-правовых принципах. Если они не входят в систему Общей части, то вряд ли на них могут быть основаны нормы и предписания. И еще – не все уголовно-правовое связано с уголовной ответственностью. Например, к ней явно не относятся принудительные меры медицинского характера, ибо применяются к невменяемым, судебный штраф и принудительные меры воспитательного характера, так как применяются или могут применяться лишь после освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.2, 90 УК РФ).
В-пятых, несомненно, нет ничего некорректного в понимании Общей части уголовного права как совокупности правовых институтов, последовательно расположенных и связанных между собой. При этом точно так же можно определить и Особенную часть, и любую отрасль (или ее часть) российского права.
Полагаем, что при дефинировании Общей части УК РФ и отражении ее специфики необходимо установить, что она является структурным элементом УК РФ, определенным образом связана с Особенной частью и отражает наиболее типичное, что свойственно предписаниям последней. При этом следует принимать во внимание, что УК РФ является нормативным правовым актом, определяющим, прежде всего, преступность и наказуемость деяний, опасных для личности, общества и государства (ч. 2 ст. 2). Последнее особенно ярко подчеркнуто в ч. 1 ст. 9 УК РФ словами, что действующим уголовным законом определяется «преступность и наказуемость деяния».
Суммируя изложенное, мы предлагаем следующую дефиницию Общей части УК РФ – это структурная единица последнего, которая регулирует типовые вопросы преступности и наказуемости всех или более-менее значительной части деяний, опасных для личности, общества и государства. Как представляется, сформулированная дефиниция без излишней детализации подчеркивает специфику изучаемой части УК РФ и ее связь с Особенной частью.
Обсуждение и заключения
Проведенное исследование подтвердило следующие выводы:
– российское уголовное законодательство изначально существовало и долгое время развивалось как таковое (часто не само по себе, а совместно с иным законодательством) без специального деления на Общую и Особенную часть, включая постановления, которые мы сейчас относим и к той, и к другой;
– Общая часть УК РФ – это структурная единица последнего, которая регулирует типовые вопросы преступности и наказуемости всех или более-менее значительной части деяний, опасных для личности, общества и государства;
– в ст. 75.1 УК РФ целесообразно ввести вид освобождения от уголовной ответственности, указанный в ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
1. Pudovochkin YU.E. Uchenie ob ugolovnom zakone: lekcii. M.: YUrlitinform, 2014. 272 s.
2. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii: nauchno-prakticheskij kommentarij (postatejnyj) / pod red. E.V. Blagova. M.: Prospekt, 2021. 1152 s.
3. ZHuk M.S. Uchenie ob institutah rossijskogo ugolovnogo prava: konceptual’nye osnovy i perspektivy razvitiya. M.: YUrlitinform, 2013. 304 s.
4. Sverchkov V.V. Kurs ugolovnogo prava. Obshchaya chast’. V 2 kn. Kn. 1. Prestupleniya i drugie deyaniya: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury. M.: YUrajt, 2014. 372 s.
5. Ugolovnoe pravo Rossii. Osobennaya chast’. 2-e izd., s izm. i dop. / pod red. A.I. Raroga. M.: Eksmo, 2008. 744 s.
6. Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast’: uchebnik / pod red. V.N. Petrasheva. M.: PRIOR, 1999. 544 s.
7. Ugolovnoe pravo Rossii: Obshchaya chast’: uchebnik / pod red. N.M. Kropacheva, B.V. Volzhenkina, V.V. Orekhova. SPb.: S-Peterb. gos. un-t, YUrid. fakul’tet S-Peterb. gos. un-ta, 2006. 1064 s.
8. Lopashenko N.A. Vvedenie v ugolovnoe pravo: uchebnoe posobie. M.: Volters Kluver, 2009. 224 s.
9. Konyahin V.P. Teoreticheskie osnovy postroeniya Obshchej chasti rossijskogo ugolovnogo prava. SPb.: YUridicheskij centr «Press», 2002. 348 s.
10. Alikperov H.D. Osvobozhdenie ot ugolovnoj otvetstvennosti. M.: MPSI; IPK RK Gen. pr-ry RF; Voronezh: Modek, 2001. 128 s.
11. Antonov A.G. Deyatel’noe raskayanie kak osnovanie osvobozhdeniya ot ugolovnoj otvetstvennosti: avtoref. dis. …kand. yurid. nauk: 12.00.08. Tomsk, 2000. 35 s.