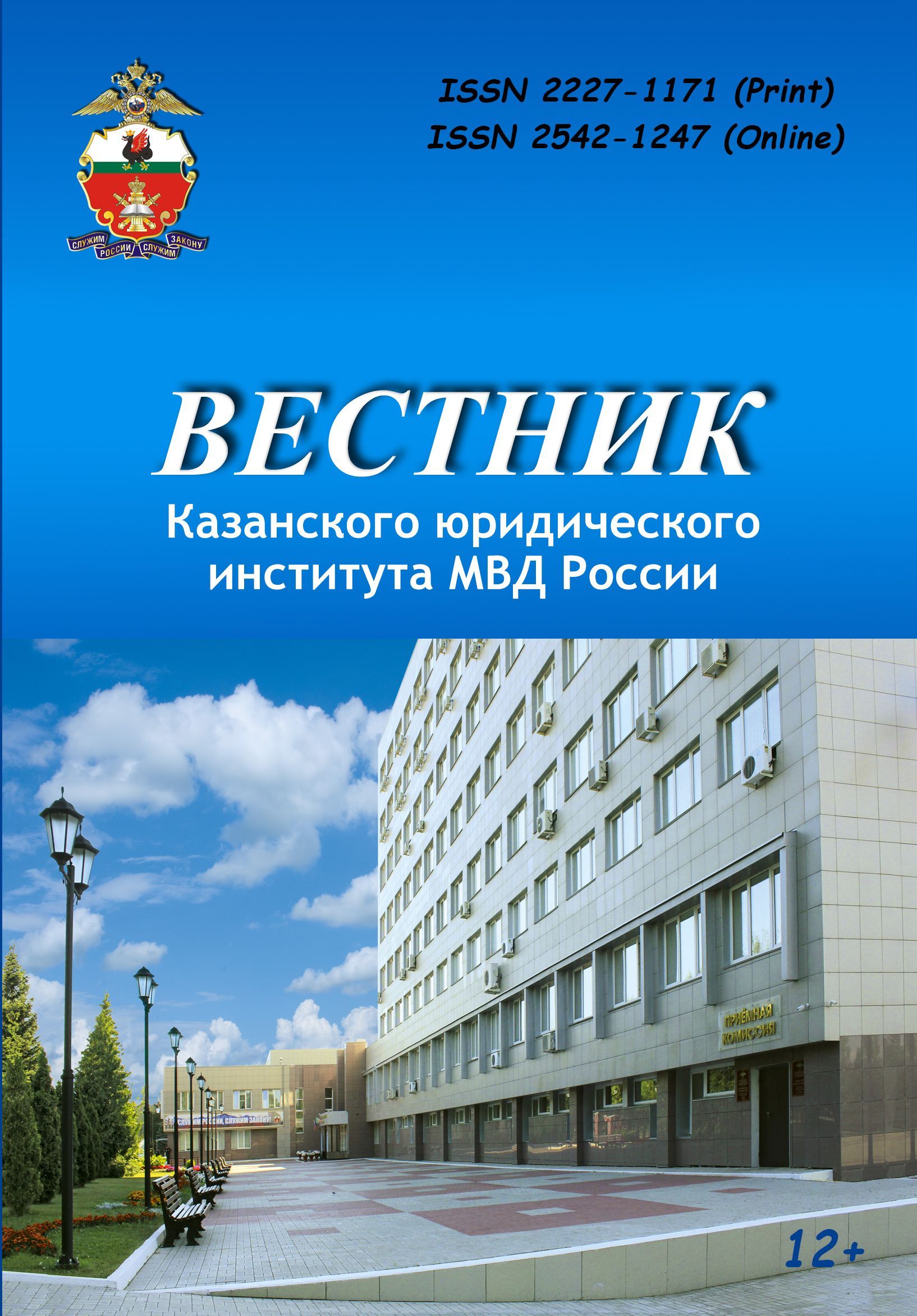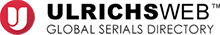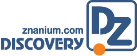employee
Yekaterinb, Russian Federation
UDK 343.132.5 Прочие меры по обеспечению доказательств. Отмена тайны переписки
Introduction: the author analyses the use of the results of investigation activity in criminal proceedings: considers Article 89 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The author pays special attention to acts regulating the use of the results of the activity in the investigation of criminal cases and their consideration by the court on the merits. Identified circumstances indicating the need to bring to a single wording of the norms of criminal procedural law with other normative sources which in practice the investigator (inquirer), employees of the body of inquiry refer to. Materials and Methods: methodology of the study were dialectical method of scientific cognition, logical, and comparative legal methods, observation and other specific study methods. Materials of the study were doctrinal recourses, and Russian legislation. Results: the author identifies norms that require symmetrical presentation in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, as well as the Federal Law "On investigative activity". It is noted that the legal regulation of the solely procedural procedure for implementation of the results of the investigative activity in the criminal process is carried out by non-core source. Discussion and Conclusions: on the basis of the study, the author proposes amendments to Articles 89, 140 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
criminal process; proof of; results of investigation activities; body of inquiry; providing the results of the ORD; operational officer; directions of use; consequence; inquiry; court
Введение
Использование носителей информации, не имеющих процессуального статуса, в рамках уголовного судопроизводства всегда являлось предметом научных дискуссий. Причиной тому послужило отсутствие надлежащего порядка их получения, гарантий соблюдения прав изобличаемых лиц, методов подтверждения объективности собранного и т.д. Указанные взгляды господствуют в науке уголовного процесса на протяжении многих десятилетий. Еще Н.А. Якубович утверждала: «Непроцессуальные формы познания не содержат столь надежных гарантий достоверности, и потому сведения, полученные из таких источников, всегда рассматриваются как предварительные, ориентирующие. Они не входят в доказательственный материал и не могут служить основанием для юридически значимых решений по делу, за исключением начала производства по делу (п. 6 ст. 108 УПК РСФСР) и производства отдельных следственных действий (ч. 2 ст. 1225, ст. 1686 и др. УПК РСФСР)» [7, с. 290]. Изложенное касается ряда категорий, в число которых входят вещественные доказательства, иные документы, результаты ОРД. Их вовлечение в сферу уголовно-процессуальных правоотношений происходит путем приведения в действие правового механизма, включающего следующие элементы: «субъект уголовно-процессуальной деятельности» – «установленный законом способ получения, истребования» – «итоговый процессуальный результат». К первому элементу относятся лица, производящие расследование по уголовному делу либо его рассмотрение (следователь, дознаватель, суд). Ко второму – конкретное процессуальное действие (их совокупность), посредством которого законодатель допускает возможность определения процессуального положения материального либо иного носителя информации, например, составление протокола, вынесение постановления. Третий элемент описываемого механизма подразумевает конечную цель совершаемой процедуры, например: установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, наложение ареста на имущество, возмещение причиненного вреда и т.д.
В фокусе нашего исследования находится институт уголовно-процессуального использования результатов ОРД ввиду высокой актуальности их применения в правоприменительной деятельности. Это обусловлено характером современной преступности. Эффективное противодействие ей невозможно сугубо уголовно-процессуальными средствами. Так, в России за период с января по май 2022 г. зарегистрировано 822,4 тысячи преступлений, из них 204 821 совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 74773 – связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ1. Очевидно, что раскрытие указанных преступлений, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, осуществление правосудия возможно путем качественного взаимодействия оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.
Обзор литературы
Изучение необходимости изменения положений статьи 89 УПК РФ в фокусе развития института уголовно-процессуального использования результатов ОРД потребовало обращения к доктринальным точкам зрения, сформулированным учеными-процессуалистами советского и последующего периода: Н.А. Якубовичем, А.А. Давлетовым, В.К. Зникиным. Также проанализированы позиции ученых, продолжающих исследование данного вопроса: В.Ю. Стельмаха, Ю.Н.Соколова, А.Е. Вытовтова, А.Ю. Олимпиева.
Материалы и методы
В качестве материалов исследования выступили нормы отечественного уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, использованы статистические сведения об актуальном состоянии преступности в Российской Федерации за январь – май 2022 года2, научные изыскания по вопросам обозначенной и смежной проблематики, важной составляющей стали материалы судебной практики Читинского районного суда Забайкальского края за 2021 год. Методологическая основа статьи представлена диалектическим методом научного познания, логическим, сравнительно-правовым методами, наблюдением, иными частными методами исследования правовых явлений.
Результаты исследования
Несомненно, оконченное преступление, равно как приготовление, покушение на его совершение, образует в объективной действительности множество новой информации. Ее получение и фиксация установленными законом способами есть проявление познавательной активности участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения либо суда, обращенное к минувшему времени. А.А. Давлетов считает, что специфика ретроспективного познания заключается в том, что оно осуществляется на основе двойного отражения. Первое отражение, возникающее в момент совершения преступления на окружающих его явлениях и вещах, носит объективный характер. Второе же отражение, возникающее в сознании субъектов процессуального познания (доказывания), является субъективным [2, с. 28]. Соглашаясь с приведенным мнением, также полагаем, что уголовно-процессуальное познание не ограничивается доказыванием. В среде исследователей-процессуалистов вектор научных интересов смещен именно к данному вопросу. Лишь немногие ученые обращают свой взор на то, что при проверке по сообщению о преступлении, расследовании уголовного дела, рассмотрении его судом правоприменитель обращается к имеющимся материалам не только с целью оценки их доказательственной составляющей. Значительное количество информации выступает стимулом к принятию процессуальных решений, например, об определении местонахождения изъятых предметов (камера хранении либо возврат на ответственное хранение), возможности предоставления свидания родственникам с уголовно-преследуемым лицом, находящимся под стражей и т.д. Немногие осознают обширность данного направления в науке уголовного процесса. В этом контексте отметим позицию Ю.Н. Соколова: «Формы использования процессуальной информации наиболее широки. Она, как и непроцессуальная информация, может служить для ориентации следователя при выборе оптимальных и организационных решений, может быть положена в основу принятия планируемых мер процессуального принуждения по уголовному делу, использована при производстве следственных действий в тактических целях (например, путем предъявления доказательств при допросе), а также в качестве сведений, на основании которых могут быть сформированы доказательства» [5, с. 91]. В связи с изложенным средства получения данной информации становятся основным «инструментом» в руках государственно-властных участников уголовного судопроизводства. Разумеется, к способам получения процессуально-значимой информации законом и практикой выдвинуты 2 требования: 1) нормативное закрепление в уголовно-процессуальном законе, 2) соответствие его же требованиям, включая соблюдение процессуальной формы сбора, использования. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации подразумевает следующие способы получения сведений, имеющих значение для расследования, рассмотрения уголовного дела по существу:
- производство следственных действий (ст. 176 – 207 УПК РФ);
- производство процессуальных действий, таких как направление запроса и т.д. (ч. 4 ст. 20, ч. 1 ст. 144 УПК РФ);
- разрешение ходатайств, в ходе которых заявившее лицо может предоставить документ, предмет для его оценки на предмет значимости для целей уголовного судопроизводства (ст. 119 – 122 УПК РФ);
- процессуальное действие, по своей правовой природе являющееся частным случаем заявления ходатайств, – приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду (ст. 286 УПК РФ);
- использование в доказывании результатов ОРД (ст. 89 УПК РФ)3.
Последний способ являются уникальным в силу ряда обстоятельств. Во-первых, сбор и закрепление искомых сведений, имеющих перспективное уголовно-процессуальное значение, происходит в рамках иной отрасли права. Во-вторых, субъектами, которые зачастую на момент осуществления ОРД вовсе могут быть не вовлечены в орбиту уголовно-процессуальных отношений. Должностные лица оперативных подразделений являются органом дознания в силу закона, но до предоставления соответствующих материалов следователю (дознавателю), в суд фактически не реализуют собственный процессуальный статус. В-третьих, сбор, фиксация и надлежащее оформление полученной информации осуществляются посредством принципиально иных средств, т.е. оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Процесс имплементации результатов ОРД в сферу уголовного судопроизводства осуществляется посредством осуществления ряда инициативных действий сотрудников органов дознания, которые таким образом реализуют уголовно-процессуальные правомочия. Ряд из них корреспондирует обязанности следователя по сбору, проверке и оценке доказательств. Однако, как мы указывали ранее, познавательные возможности процессуально-значимой информации шире, чем вопросы доказывания. Примечательно, что институт использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве сравнительно «молод» и, на наш взгляд, далек от своей зрелости. Его становление в привычном для нас состоянии произошло благодаря двум событиям: 1) принятию публичных нормативных правовых актов, регулирующих гласные аспекты ОРД, в числе которых использование их результатов в уголовном судопроизводстве, 2) принятию действующего УПК РФ, допускающего использование результатов ОРД. Ранее, т.е. до 1992 года, использование результатов ОРД в уголовном процессе выступало некой правовой абстракцией, основанной на правоприменительной практике в конкретной местности и не имеющей единообразия. Убедителен довод В.Ю. Стельмаха: «Немаловажное значение имел и тот факт, что законодательного акта, регламентирующего ОРД, до 1992 г. не имелось, и она регулировалась исключительно ведомственными нормативными актами, к тому же имеющими гриф секретности» [6, с. 30]. Принятие действующего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащего упомянутую статью 114, не только создало нормативные предпосылки к использованию результатов изначально непроцессуальных мероприятий в уголовном судопроизводстве, но и породило ряд проблем теоретического характера. Они лишь приумножились с вступлением в силу УПК РФ. Дело в том, что направления использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве представляют собой нормы уголовно-процессуального характера, но регулируются не профильным нормативным источником, а смежным Федеральным законом, посвященным иному виду правоохранительной деятельности. Наряду с этим, сомнительной является и формулировка статьи 89 УПК РФ, начиная от ее названия «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности», заканчивая диспозицией: «В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом». В то же время статья 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», по нашему мнению, имеющая более удачное наименование «Использование результатов ОРД», предусматривает следующие направления применения в уголовном процессе: 1) результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 2) для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации; 3) результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 4) использоваться в доказывании по уголовным делам. Очевидно, что УПК РФ вновь обращается лишь к доказательственным возможностям ОРД, необоснованно исключая остальные. При этом достаточное количество оперативно-служебных документов, предоставляемых следователю (дознавателю) в рамках результатов ОРД, служит цели подготовки процессуальных действий, решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Их использование не только для целей доказывания, но и подготовки иных следственных действий, приводящих к изобличению лица в совершении преступления, находит отражение и судебной практике. Так, описательно-мотивировочная часть одного из обвинительных приговоров Читинского районного суда Забайкальского края содержит следующий пример: суд находит неубедительными доводы стороны защиты о том, что по делу не добыто каких-либо доказательств личной заинтересованности Л. в получении взаимной услуги, а результаты ОРМ не доказывают о связи Л. с П. Однако, согласно информации, представленной ОАО «Мегафон» по детализации соединений по абонентскому номеру Л. и абонентским номером П. за период с 01.01.2018 по 29.06.2018, подтверждается систематическое общение подсудимого Л. с П. в исследуемый судом период в различное время суток. Представленные на СД-диске материалы осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела5. В результате ранее предоставленных результатов ОРД в виде детализации телефонных соединений подготовлено
и произведено следственное действие «Осмотр», по результатам которого предметы признаны вещественными доказательствами. Подобных примеров не счесть.
Подготовка к производству следственных и судебных действий представляет собой важный этап познавательной деятельности участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и разрешения дела, в связи с этим необходимо создать условия процессуального обеспечения обозначенной процедуры посредством нормы уголовно-процессуального закона. Аналогичное положение дел сложилось с использованием результатов ОРД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Между тем известно, что предоставленные результаты ОРД не образуют собой самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела. В практической деятельности, как и в теории уголовного процесса, их принято рассматривать как сообщение о преступлении, полученное из иных источников. Законодатель планировал предусмотреть универсальное решение, позволяющее с учетом стремительно меняющихся общественных отношений должным образом реагировать на информацию о противоправных деяниях, поступающую в адрес процессуально правомочных лиц. Например, сегодня сообщить о преступлении возможно посредством направления электронного письма в адрес подразделения МВД, СК России и т.д. Считаем, что нормативно-установленный порядок сбора, проверки, представления результатов ОРД отличает их от любых других сообщений о преступлении. Изложенный факт подтверждает необходимость придания особого положения результатам ОРД среди поводов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По нашему мнению, УПК РФ должен учитывать данное обстоятельство.
В настоящее время нормативно-правовое регулирование порядка использования результатов ОРД в уголовном процессе в большей мере регулируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд6, чем УПК РФ. Именно в указанных источниках содержатся ключевые аспекты имплементации результатов ОРД в уголовно-процессуальную сферу. После вынесения рапортов, постановлений, сообщений, т.е. соблюдения порядка ввода результатов ОРД в материал проверки по сообщению о преступлении либо уголовное дело происходит изменение статуса передаваемых документов с оперативно-розыскных на уголовно-процессуальные. Подчеркнем, что последовательность действий, круг компетентных субъектов, их права, обязанности регламентированы не УПК РФ, а иными источниками, что само по себе парадоксально. Кроме необоснованного сужения направлений использования результатов ОРД в уголовном процессе, представляется спорным само изложение статьи 89 УПК РФ в следующей редакции: «В процессе доказывания запрещается…», «если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом». Двойное отрицание приводит в замешательство. Как отметил А.Ю. Олимпиев: «Наименование поименованной статьи однозначно указывает на допустимость, во всяком случае, использования в уголовно-процессуальном доказывании результатов ОРД. А вот содержание этой же статьи фактически представляет запрет на использование результатов ОРД в уголовно-процессуальном доказывании, ибо результаты ОРД являются следствием оперативно-розыскных мероприятий, а не уголовно-процессуальных действий» [4, c. 247].
С учетом вышеизложенного считаем, что в настоящее время существует объективная необходимость в установлении тождества норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, регулирующих направления использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Статья 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» представляет собой емкую, содержательную норму, исчерпывающим образом определяющую направления использования результатов ОРД в уголовном процессе. Полагаем необходимым изменить положение статьи 89 УПК РФ, унифицировав ее со статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», исключив из содержания последней несвойственные уголовному судопроизводству направления. Предлагаем изложить статью 89 УПК РФ в следующей редакции:
«УПК РФ Статья 89. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве
1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:
1) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2) результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Кодекса, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств;
3) результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации».
Облечение статьи 89 УПК РФ в предлагаемую нами редакцию – есть ни что иное, как нормативно-пригодная форма, регламентирующая надлежащее использование результатов ОРД в уголовном процессе. Подчеркнем, что указанная статья находится в 3 разделе УПК РФ (Доказательства в уголовном судопроизводстве). Так как каждое из вышеприведенных направлений использования результатов ОРД служит цели установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, каких-либо обстоятельств, препятствующих их включению в состав статьи 89 УПК РФ, не существует. Аналогичной позиции придерживаются и отдельные ученые-процессуалисты. В частности, В.К. Зникин в диссертационном исследовании на тему научных основ оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений предлагает изложить статью 89 УПК РФ следующим образом: «Результаты оперативно-розыскной деятельности при соблюдении законных процедур могут быть использованы в доказывании по уголовным делам, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, служить поводом и основание для возбуждения уголовных дел» [3]. На наш взгляд, за пределы статьи 89 и раздела доказывания УПК РФ необходимо вынести положения о возможности возбуждения уголовного дела на основании предоставленных результатов ОРД. Полагаем, что целесообразно дополнить часть 1 статью 140 УПК РФ пунктом 5:
«УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
«5) предоставленные в установленном законом порядке результаты оперативно-розыскной деятельности».
Обсуждение и заключение
Не разрешенные до настоящего времени противоречия между традиционно признаваемой ценностью и высоким правовым значением уголовно-процессуальной формы, с одной стороны, и реальными потребностями следственной и судебной практики в части использования в доказывании результатов ОРД, с другой – обусловливают осторожность и нерешительность законодателя в отношении данных вопросов [1]. Законодательные изменения послужат должной правовой регламентации использования результатов ОРД в уголовном процессе, устранят необоснованно узкое представление в среде теоретиков относительно уголовно-процессуальных ресурсов данного вида правоохранительной практики. Все это является необходимым этапом генезиса института уголовно-процессуального использования результатов ОРД. Любой вид человеческой деятельности, в том числе и нормотворческая, не может быть идеальным изначально. Вместе с тем устранение пробелов и законодательных формулировок, предполагающих неоднозначную интерпретацию в регулировании общественных отношений, должно быть своевременным. Сегодня сформированы объективные причины корректировки положений ст. 89, 140 УПК РФ.
1. Vytovtov A.E. Rezul'taty operativno-rozysknoj deyatel'nosti kak sredstva dokazyvaniya v ugolovnom sudoproizvodstve (po materialam ugolovnyh del ekonomicheskoj napravlennosti): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.09. Omsk: Omskaya akademiya MVD Rossii, 2020. 24 s.
2. Davletov A.A. Osnovy ugolovno-processual'nogo poznaniya. Ekaterinburg, 1997. 190 s.
3. Znikin V.K. Nauchnye osnovy operativno-rozysknogo obespecheniya raskrytiya i rassledovaniya prestuplenij: avtoref. dis.… d-ra yurid. nauk: 12.00.09 // Elektronnaya biblioteka dissertacij «Dissercat»: URL: https://www.dissercat.com/content/ nauchnye-osnovy-operativnorozysknogo obespecheniyaobespecheniya-raskrytiya-I-rassledovaniya-prestuplenii (data obrashcheniya: 17.09.2022).
4. Olimpiev A.YU. O protivorechivosti polozhenij st. 89 UPK RF // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2011. № 6. S. 246 - 248.
5. Sokolov YU.N. Processual'naya i neprocessual'naya informaciya (formy ispol'zovaniya v ugolovnom sudoproizvodstve) // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2010. № 4 (23). S. 90 - 91.
6. Stel'mah V.YU. Nekotorye problemy dopustimosti rezul'tatov operativno-rozysknoj deyatel'nosti kak dokazatel'stv po ugolovnym delam // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2015. № 3 (74). S. 29 - 36.
7. YAkubovich N.A. Ponyatie i soderzhanie processa dokazyvaniya // Teoriya dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom processe / otv. red. N.V. ZHogin.-izd. 2-e ispr. i dop. Moskva, 1973. 736 s.