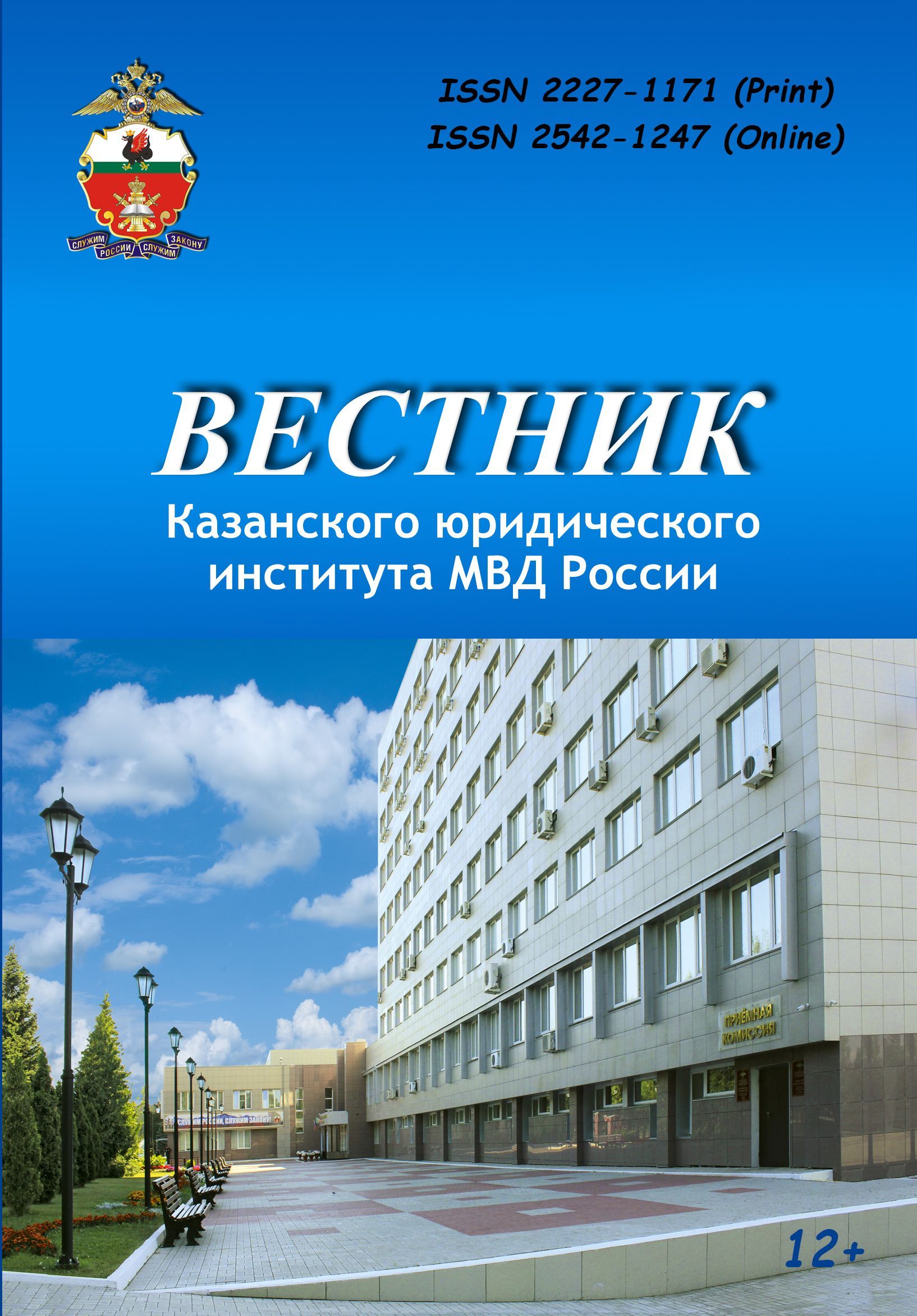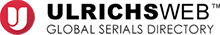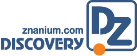UDK 342.571 Участие народа в государственном управлении
Introduction: the author analyzes the theoretical approaches to the term "interest" for the study of subjective rights on the representation of legitimate rights of members of a political party as well as compares them to Russian party legislation. The perception of legitimate interests that dominates in public law affects the ambiguity of their interpretation in law enforcement practice. This complicates the ability of parties to protect their subjective rights. The correlation of these terms requires a comprehensive legal understanding. Materials and Methods: the author based his study on scientific works of Russian researchers. Among the methodological approaches, the institutional approach, the method of legal hermeneutics, and legal modeling were involved. The author also relied on general scientific methods (structural, logical and other research methods). Results: the existing system of rights for political parties is based on a tripartite structure: the basic subjective rights (the right to participate in elections and referendums, the right to disseminate information, the right to hold public actions, and others), optional corporate rights (the right to establish certain organizations, the right to carry out entrepreneurial activities, and others), an intermediate right is the right to represent the legitimate interests of party members. In such a system of rights, their narrowing is observed depending on the activities of a political party: core activities (participation in public politics) and secondary activities characteristic of most legal entities. Discussion and Conclusions: the concept "legitimate interests" in the Russian party legislation has acquired a procedural and legal meaning. This violates the purpose of party rights and freedoms, as well as the object of activity of political parties. Such an interpretation makes it difficult for party organizations to participate in court cases based on their corporate and political interests. In conclusion, the author notes that the right to represent the legitimate interests of members of a political party should be focused on protecting party interests.
political party; party relations; party law; party legislation; subjective rights; legitimate interests; realization of the right; public law
Введение
Партии, став неотъемлемым условием функционирования российской политической системы, не только объединяют, но и представляют интересы граждан в государственно-общественном взаимодействии, поскольку принимают участие в формировании федеральных, региональных и местных органов власти, а также способны оказать влияние на государственно-управленческие решения.
Вместе с тем партийные функции на современном этапе неизбежно меняются с учетом трансформации публичной политики Российской Федерации. Это закономерно влечет потребность в пересмотре существующей системы прав политических партий.
Так, на протяжении последнего десятилетия положения Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 29.05.2023) «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ)1 подверглись многочисленным редакциям:
- в части реализации партиями избирательных прав2;
- применительно к финансовым3 и имущественным4 правам и обязанностям партийных организаций;
- относительно участия политических партий в объединениях и союзах, претендующих на формирование списков кандидатов на муниципальных выборах5.
В формально-юридической плоскости право политических партий на представление законных интересов своих членов остается статичным, поскольку никаких прямых изменений в Федеральном законе № 95-ФЗ в отношении данного субъективного права не наблюдается. Однако механизмы его осуществления претерпели определенную модификацию, что требует анализа в рамках статьи.
Обзор литературы
Термин «интерес» в правовых науках получил разные трактовки. Так, в теоретико-правовом значении он выступает субъективным качеством, предопределяющим правовое поведение личности и ее волеспособность [1; 2].
В публичном праве доминирует понятие интереса в качестве категории, смежной с субъективными правами и свободами, т.е. означающей определенную возможность, которая вытекает из законодательства, но напрямую не зафиксирована в его нормах, вследствие чего не обеспечена принудительной силой государства [3, с. 48; 4, с. 3]. Последняя характеристика, в частности, используется исследователями для обоснования различий между «правом» и «законным интересом», которые являются наиболее близкими юридическими конструктами [5].
Представляется, что такая трактовка в определенной степени не соответствует современному законодательству, зачастую указывающему на законные интересы наравне c субъективными правами. Например, в преамбуле Федерального закона № 95-ФЗ прямо подчеркивается, что соблюдение прав и законных интересов политических партий обеспечивается государством.
В частном праве понятие «интерес» имеет более детализированное содержание, выражающееся не только в определенных субъективных возможностях, но и в установлении пределов правового регулирования [6; 7]. В обобщенном виде «законный интерес» в гражданско-правовом смысле может означать совокупность частных свобод личности, которые не регулируются законодательными нормами, поскольку остаются на усмотрение самих участников гражданских правоотношений (например, посредством индивидуально-правового регулирования и преимущественно в договорных формах) [8, с. 211; 9, с. 98].
Отмеченная особенность, впрочем, не означает, что усмотрение субъекта имеет безграничный характер, что отделяет «законный интерес» от всех иных видов интересов в структуре правового поведения. Поэтому в процессуально-правовых науках данная категория рассматривается в плоскости защитных мер (при обращении в правоприменительные инстанции) [10, с. 23; 11, с. 35].
В структуре института политических партий понятие интереса схожим образом не получило универсального осмысления среди исследователей, что выражается в трех значениях:
интерес в качестве предмета партийной деятельности, призванной консолидировать публичные и частные интересы для формирования и выражения политической воли [12; 13];
интерес как индивидуализирующее качество политической партии, выступающей корпоративным субъектом [14];
интерес членов партии в рамках совокупности внутренних и внешних правоотношений с участием партийной организации [15].
Материалы и методы
В целях проводимого исследования были задействованы общенаучные методы:
- формально-логический (посредством анализа, синтеза, моделирования, абстрагирования, аналогии);
- структурный метод;
- системно-функциональный метод;
- диалектический метод познания.
Из числа специальных методов юридического познания законных интересов в партийных правоотношениях применены:
- формально-юридический метод;
- технико-юридический метод;
- метод правового моделирования;
- методы грамматического, логического и системного толкования правовых норм;
- метод правовой герменевтики, при помощи которого исследован смысл правовых норм и нормативных конструкций, задействованных в партийном законодательстве.
В методологическом плане «интерес» заложен в принципах институционального подхода в правовых науках, согласно которому любой правовой институт представляет определенную структуру поведения в соответствии с обособленной группой норм, статусов, ценностей, типами мышления и поведенческими моделями на протяжении некоторого периода времени [16; 17]. В подобном сочетании прослеживается одновременно объективизация и субъективизация прав политических партий, что вытекает из феноменологического методологического подхода, разработанного А.И. Овчинниковым применительно к институциональным компонентам [18].
Вместе с тем значимость хронологического критерия партийных правоотношений, составляющих предмет правового института политических партий, позволяет ученым-правоведам определять степень институциональности. В таком ракурсе признак «типизации» рассматриваемых правоотношений предопределил выделение методологического подхода к институтам, согласно которому происходит их разграничение на «типичные» и «нетипичные» в рамках определенной системы права [19, с. 360; 20, с. 179]. Примечательно, что типизация института политических партий устанавливается по комплексу параметров: и формально-юридического свойства [21, с. 44], и историко-правовой состоятельности самих партийных отношений [22, с. 90].
Результаты исследования
В сложившейся системе прав политических партий представление законных интересов партийных членов занимает промежуточное положение между базовыми субъективными правами (такими как право на участие в выборах и референдумах, право на распространение информации, право на проведение публичных акций и др.) и факультативными корпоративными правами (например, право на учреждение определенных организаций, право на осуществление предпринимательской деятельности и др.). Косвенно это подтверждается структурой п. 1 ст. 26 Федерального закона № 95-ФЗ, в которой прослеживается подход по сужению партийных прав в зависимости от профильной деятельности (участия в публичной политике) к второстепенным направлениям деятельности, свойственным большинству видов юридических лиц, к числу которых законодательство относит политические партии.
Так, в п. 1 ст. 3 Федерального закона № 95-ФЗ партия раскрыта в качестве общественного объединения, состоящего из граждан Российской Федерации для политического участия. На этом основании мы пришли к выводу, что не сама партия, а граждане посредством партийной деятельности проявляют свои политические интересы в общественных и государственных вопросах. Тем самым при помощи партии консолидируется, формируется и выражается воля ее членов, а также реализуются их общие политические предпочтения.
В рассматриваемом п. 1 ст. 3 Федерального закона № 95-ФЗ косвенно заложены коллективные права политических партий, что выступает следствием доминировавшей длительное время в советском праве концепции коллективных субъектов [23; 24]. В таком виде интересы партийных членов неразрывны от интересов всей партии, что отчасти объясняет современное правовое наполнение термина «политический интерес» в российском законодательстве. В частности, в п. 2 ст. 10 Федерального закона № 95-ФЗ содержится гарантия решения органами публичной власти вопросов, затрагивающих интересы политических партий, исключительно по согласованию с соответствующими партийными организациями, а равно при их непосредственном участии.
Отсюда следует, что партия формирует и выражает интересы граждан в формах, прямо указанных в Федеральном законе № 95-ФЗ, а именно: посредством участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а равно в представлении гражданских интересов через государственные органы и органы местного самоуправления.
Существующие партийные функции, заложенные в законодательстве на базе классических научных представлений о предназначении политических партий, позволяют в организованном порядке заниматься объединением гражданских интересов в общий коллективный интерес. Именно последний воплощается в идеологическом, социальном, просветительском и в иных направлениях партийной деятельности. Между тем подобная консолидация политических интересов выступает внутрипартийным вопросом, который не может быть урегулирован в законодательной форме для соблюдения свободы партийной деятельности (п. 1 ст. 8 Федерального закона № 95-ФЗ) и принципа невмешательства государства в партийные дела (п. 1 ст. 10 Федерального закона № 95-ФЗ).
Тем не менее партийные правоотношения складываются не только во внутриорганизационной плоскости, но и с участием внешних субъектов, с которыми партия взаимодействует в качестве единого субъекта права, обладающего общей волей. Во многом такая воля может рассматриваться в качестве корпоративной, поскольку законодательство наделяет партийные организации статусом юридических лиц. Поэтому интересы политической партии вполне целесообразно трактовать как совокупность соответствующих интересов ее членов.
Примечательно, что подобный объект воплощен в базовых положениях партийного законодательства: в п. 1 ст. 3 Федерального закона № 95-ФЗ подчеркивается категория «политическая воля», являющаяся по существу субъективным качеством. Данный характер дефиниции из проанализированной нормы подтверждается целями деятельности политических партий, названными в п. 4 ст. 3 Федерального закона № 95-ФЗ.
Вместе с тем попытка отождествления субъективных партийных прав с интересами партийных членов приводит к выводу о совпадении правового статуса политических партий и иных общественных объединений, что представляется не вполне корректным.
Так, вполне очевидные политические интересы могут выражать также объединения непартийного характера, реализующие активность гражданского общества по воздействию на власть и на принимаемые ее институтами управленческие решения. При этом совпадение интересов политических партий и общественно-политических объединений вовсе не означает, что способы выражения таких субъективных интересов одинаковы, поскольку в партийной деятельности данные способы регламентированы императивным методом путем выстраивания системы требований и условий. Их несоблюдение в той или иной форме (выражение политической воли запрещенными способами и средствами) накладывает на партийную организацию специальную юридическую ответственность. Применительно к иным общественным объединениям подобного механизма правового регулирования не прослеживается.
На различиях между общественными объединениями и политическими партиями строится объект партийных правоотношений, которым является общий коллективный интерес членов политической партии, реализуемый в формах, предусмотренных законодательством.
Совокупный партийный интерес воплощается не только при формировании общественного мнения и при проведении политической пропаганды, но и в непосредственном участии партии в политической системе. Поэтому включение в содержание п. 1 ст. 26 Федерального закона № 95-ФЗ такого партийного права, как представление законных интересов членов партии, обосновано природой рассматриваемого общественно-политического объединения. В то же время анализируемое субъективное право указано наравне с правом политической партии на защиту, что несколько сужает его смысловое значение.
В отличие от концепции коллективных субъектов, базирующейся на выстраивании единичных интересов в общий корпоративный интерес, действующая норма, изложенная в пп. «и» п. 1 ст. 26 Федерального закона № 95-ФЗ, демонстрирует воплощение процессуально-правового подхода. Как известно, защита выступает правомерной реакцией субъекта на нарушение не только его прав и свобод, но и законных интересов. В таком значении последние нельзя приравнивать к политическим или сугубо корпоративным интересам, поскольку в приведенном п. 1 ст. 26 Федерального закона № 95-ФЗ говорится о любых законных интересах партийных членов. Вместе с тем, исходя из предмета регулирования данного закона, следует заключить, что речь идет только о партийном членстве, в рамках которого у граждан формируются и выражаются субъективные интересы.
Однако фрагментарная правоприменительная практика, сложившаяся в Российской Федерации, демонстрирует значительно узкое толкование пп. «и» п. 1 ст. 26 Федерального закона. Помимо ограничения по кругу правоотношений6, суды трактуют право партий на представление законных интересов своих членов исключительно в персонализированном ключе, что означает фактический запрет политическим партиям защищать интересы неопределенной категории лиц (например, всех членов)7. Кроме того, частым примером выступают сомнения судебных инстанций в наличии или отсутствии полномочий определенного лица на представление законных интересов членов политической партии8. В результате реализуется сугубо корпоративный подход к партийным организациям как юридическим лицам – хозяйствующим субъектам, что несколько размывает предназначение партийного законодательства и института политических партий.
Таким образом, категория «законные интересы» в действующем партийном законодательстве получила узкое процессуально-правовое наполнение, что в определенной степени нарушает смысл партийных прав и свобод на фоне предмета деятельности политических партий. Данная трактовка препятствует участию партийных организаций в делах, непосредственно затрагивающих их корпоративные интересы как юридических лиц, а также политические интересы, выступающие в качестве объекта партийных правоотношений. Между тем именно на защиту последнего должна быть ориентирована норма, изложенная в подп. «и» п. 1 ст. 26 Федерального закона № 95-ФЗ.
1. Baranov V.M., Pershin M.V., Pershina I.V. Zakonnyy interes: opyt postroeniya teorii // Filosofiya prava. 2005. № 3 (15). S. 98 - 103.
2. Trofimov V.V. «Zakonnye interesy» kak forma obespecheniya yuridicheskih znachimyh social'nyh interesov // Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. 2008. № 3. S. 207 - 208.
3. Korobova E.A., Il'inyh A.V. Zakonnye interesy lichnosti v konstitucionnom prave Rossiyskoy Federacii: monografiya. Chelyabinsk: Chelyabinskiy institut UrAGS, 2011. 206 s.
4. Gorbunov V.A., Mateykovich M.S. Zakonnyy interes v konstitucionnom prave Rossiyskoy Federacii // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo. 2006. № 5. S. 2 - 6.
5. Subochev V.V. Mehanizm transformacii zakonnyh interesov v sub'ektivnye prava i sub'ektivnyh prav v zakonnye interesy // Sovremennoe pravo. 2007. № 3. S. 89 - 96.
6. Mal'ko A.V., Subochev V.V. Zakonnye interesy i ih proyavleniya v chastnom i publichnom prave // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2007. № 8 (32). S. 4 - 10.
7. Kostyuk N.N. Mesto zakonnyh interesov i sub'ektivnyh grazhdanskih prav v mehanizme realizacii zaschity prav i zakonnyh interesov grazhdan i yuridicheskih lic // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2006. № 1 (29). S. 94 - 97.
8. Motovilovker E.Ya. Zakonnyy interes i sub'ektivnoe grazhdanskoe pravo // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Pravovedenie. 2005. № 2 (259). S. 210 - 217.
9. Kazak V.N., Kudaeva A.V. Zakonnyy interes kak predposylka priobreteniya i realizacii sub'ektivnogo grazhdanskogo prava // Internauka. 2021. № 45-2 (221). S. 98 - 99.
10. Tomilov A.Yu. Funkcii pravootnosheniy po zaschite chuzhih prav, svobod i zakonnyh interesov v ramkah grazhdanskogo processual'nogo prava // Arbitrazhnyy i grazhdanskiy process. 2011. № 12. S. 21 - 27.
11. Grishin P.A. Samozaschita i samoohrana grazhdanskih prav i zakonnyh (ohranyaemyh zakonom) interesov: razgranichenie ohranitel'nyh institutov otechestvennogo prava // Yuridicheskie issledovaniya. 2018. № 6. S. 30 - 37.
12. Erygina V.I. Politicheskie partii kak predstaviteli gruppovyh obscheznachimyh interesov v sisteme parlamentarizma (teoretiko-pravovoy aspekt) // Interesy v prave. Zhidkovskie chteniya: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii. Rossiyskiy universitet druzhby narodov. 2017. S. 321 - 328.
13. Gutorova A.N. Deyatel'nost' politicheskih partiy po realizacii potrebnostey i interesov izbirateley // Prava cheloveka: istoriya, teoriya, praktika: materialy nauchno-prakticheskoy konferencii. 2009. S. 40 - 42.
14. Vladimirova I.A. Nekotorye osobennosti predstavitel'stva interesov politicheskih partiy v sude // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. 2008. № 9. S. 14 - 16.
15. Mal'cev V.A. Rol' politicheskih partiy v mehanizme zaschity prav i interesov grazhdan // Pravovaya nauka i reforma yuridicheskogo obrazovaniya. 1998. № 8. S. 107 - 128.
16. Atanov A.A., Rudyakov V.A. Institucional'nyy podhod k opredeleniyu osnovaniya prava v Rossii // Baikal Research Journal. 2023. T. 14. № 1. S. 245 - 257. DOIhttps://doi.org/10.17150/2411-6262.2023.14(1).245-257
17. Salin P. Sootnoshenie ponyatiy «institut prava» i «institut zakonodatel'stva» v sovremennoy rossiyskoy pravovoy doktrine // Yuridicheskaya mysl'. 2007. № 6 (44). S. 108 - 115.
18. Ovchinnikov A.I. Germenevtiko-fenomenologicheskaya koncepciya prava. Chast' I // Severo-Kavkazskiy yuridicheskiy vestnik. 2010. № 2. S. 14 - 21.
19. Cincadze N.S. Tradicionnye neformal'nye pravovye instituty v rossiyskom chastnom prave: ponyatie, priznaki i problemy identifikacii // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2012. № 11 (115). S. 353 - 362.
20. Orlov M.V. Vliyanie formal'nyh i neformal'nyh institucional'nyh struktur na razvitie instituta prav sobstvennosti // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-ekonomicheskogo universiteta. 2010. № 5. S. 178 - 181.
21. Paneyah E.L. Neformal'nye instituty i formal'nye pravila: zakon deystvuyuschiy VS. zakon primenyaemyy // Politicheskaya nauka. 2003. № 1. S. 33 - 52.
22. Derenik'yan K.A. Formal'nye i neformal'nye instituty i mehanizmy ih formirovaniya // Vestnik universiteta. 2009. T. 1. № 2. S. 89 - 98.
23. Korovin K.S. Predposylki, faktory i aktory formirovaniya sovetskogo konstitucionalizma // Istoriko-pravovye problemy: novyy rakurs. 2020. № 4. S. 20 - 38. DOI:https://doi.org/10.24411/2309-1592-2020-10017
24. Rabazanov S.A. Kollektivnye sub'ekty konstitucionnyh otnosheniy: istoriya i sovremennost' // Stabil'nost' i dinamizm Rossiyskoy Konstitucii: materialy HII Mezhdunarodnogo konstitucionnogo foruma, posvyaschennogo 15-letiyu vozrozhdeniya yuridicheskogo fakul'teta SGU imeni N.G. Chernyshevskogo: sbornik nauchnyh statey. Saratov, 2021. S. 176 - 180.